Выстрел — это грохот.
Конечно, можно спорить, что выстрел — это сложный процесс, занимающий от нескольких секунд до нескольких часов. Это проверка оружия и его заряда, выход на позицию и выбор мишеней. Это правильное дыхание и точный прицел. Это твердая рука и едва заметное сопротивление спускового крючка. Это отдача, легко ударившая в плечо, и чей-то оборванный вскрик. Выстрел — намерение убить. Это отстрелянные заряды, упавшие к ногам, выбитые из стен крошки, оставленные в полу вмятины и оставшиеся там же капли крови и... И грохот. Конечно же, грохот.
Вега не слышит грохота. Он вообще ничего не слышит кроме бешеного набата своего сердца и хрипа в пересушенной глотке. Иногда в ушах возникает чей-то гневный окрик или испуганный писк. Изредка он кричит сам и еще реже — молится.
Но это еще не значит, что грохота не было.
Джеймс вильнул правее, пропуская пулю стороной, и вместо того, чтобы рвануть вперед, резко откатился назад — пол на расстоянии полушага впереди обзавелся еще одной округлой вмятиной. Не давая себе времени на вдох, снова рванул вперед. Нырнул в толпу и вперед. Укрылся за ящиками и вперед, согнувшись. Сворачивает в узкий переулок и снова вперед, обтирая спиной стены. Заметил, рассчитал, почувствовал, угадал и бросился под машину, прокатился под ее днищем и вперед, но теперь уже ползком.
«Диос, помоги, прошу. Только еще одна пуля, еще раз Диос, отведи, ну? Чего тебе стоит? Только одна улица, еще немного. Давай, прошу тебя...»
Он споткнулся, ткнувшись в асфальт ладонями, и от стены, тот час принявшей сразу два выстрела, посыпались крошки. Перекатился, больно ударившись локтем, достиг низкой оградки, ухватился за нее руками. Вот одно движение — и он уже мешком валится по другую ее сторону.
Тяжелая винтовка только мешает, занимает руки, тянет вниз, и он бросает ее у ограды. Ничего, у него есть еще пара пистолетов, есть боевой нож в сапоге, а если совсем прижмет, можно намотать на кулак тяжелую цепь... Наверняка где-нибудь здесь можно найти цепь. Главное — продержаться, дотянуть до момента, когда у снайпера кончатся патроны, завести туда, где нельзя будет спрятаться, навязать ближний бой...
«Диос!..»
Сердце пропускает очередной толчок, и он, повинуясь какому-то седьмому чувству, резко поворачивается боком. Пущенная в грудь пуля только царапает плечо и его разворачивает на месте.
Снайпер кажется ему всюду: на крышах домов, в темных окнах, грязных подворотнях, за каждым углом, в каждой краем глаза замеченной тени. Он меняет заряды и позиции легко и изящно как перчатки, и выстрелы летят со всех сторон.
Можно, конечно, остановиться и просто дождаться, пока спляшет на лбу красная точка прицела. Вега знает, что больно не будет, но не хочет и не может сдаваться. Можно, используя пистолет, прикрыться живым щитом, и снайпер сдержит легший на спусковой крючок палец, но он так не умеет. Остается лишь бежать, пока не выпрыгнет из горла сердце, не разорвутся легкие.
Он никогда не чувствовал подобного прежде. Его никогда не загоняли, как зверя, никогда не делали мишенью настолько безжалостно и расчетливо, никогда не заставляли бежать сквозь толпу, малодушно шепча, как заклинание: «Не меня».
Он петляет по рабочему кварталу, как вышедшей из ума заяц, краем сознания понимая, что снайпер не стреляет уже несколько ударов сердца — слишком долго!.. — но даже не допускает мыли, что ушел от погони. Он замирает на миг, и из бедра тут же брызгает алый фонтанчик. Джеймс валится на пол, стискивая зубы, кое-как поднимается и скрывается за ближайшим углом. В голове звенит от боли. Он нашаривает на поясе передатчик, подносит его к губам и стискивает до хруста в пальцах, когда тот шипит помехами по всем частотам: первым выстрелом снайпер отогнал его от собственной машины, вторым — перегрузил электронику.
Джеймс находит взглядом дыру в заборе и ныряет туда почти не задумываясь. И оказывается в узком переулке, словно созданном для тайных встреч. С одной стороны имеется глухая стена без окон и дверей, с другой — старая кладка древней лавки, где раньше торговали ношеным шмотьем. Впереди тупик, позади — дыра в железной сетке забора, пустая улица, на которую он выбежал, темнота. И снайпер.
Он не сдерживает нервного смешка, прижимаясь затылком к холодным стенам: «Добегался». Но все же достает пистолет и наводит его на замок в двери старой лавки. Вега не надеется на помощь: он никому не сказал, куда направляется и когда вернется. И прекрасно понимает, куда его занесло. Когда-то он рос в подобном месте, там, куда ночью ни за что не зайдет ни один патруль, а выстрелы лишь заставят местных крепче запереть свои двери.
В начале переулка звякает сетка, и он, согнувшись, торопливо уходит вглубь помещения, старательно прячась за коробками и покосившимися платяными стойками. Он не слышит звука шагов, но спустя какое-то время понимает, что противник здесь.
Снайпер тих. Он двигается совершенно бесшумно, но Джеймс чувствует его скользящий по помещению взгляд, чувствует, как колышется от его движений затхлый воздух, почти слышит его спокойное дыхание и, сделав несколько глубоких вдохов, вываливается из укрытия, выпуская пули почти безошибочно. Темный силуэт шарахается в сторону, уходя из-под огня, падет за ящики, и Вега перекатывается через плечо, на ходу меняя обойму. Прижимаясь затылком к держащей потолок колонне, он чувствует, как, опоздав на долю секунды, ударяется в нее пуля. И вновь он стреляет по укрытию, за которым скрылся снайпер.
Вслед за грохотом воцаряется потрясающая тишина. Вега не решается броситься к распахнутой двери — он не уверен, что хотя бы задел противника, и по себе знает, какая отменная у него реакция. Он осторожно выглядывает из-за укрытия, мысленно готовясь поймать пулю, но вместо этого слышит едва приметный шорох несколько левее. «Диос, как же он проворен!» Оборачивается на звук всем корпусом и вновь жмет на курок, но чьи-то длинные пальцы клещами сжимаются на его руке, отводя плюющий заряды пистолет в сторону, а после выкручивают запястье так, что кости мерзко хрустят. Джеймс кричит и бьет другой рукой, но и она оказывается перехвачена. Его рывком придавливают к колонне, выбивая из легких воздух, точным ударом по простреленной ноге заставляют отчаянно искать равновесие и, вырывая пистолет из руки, сбрасывают на пол.
— Я не хотел делать больно, но ты слишком хорошо бегаешь.
Перед глазами пляшут темные пятна, и лицо противника удается рассмотреть не сразу, но это и не нужно: Вега видит руку, направившую ему его же пистолет в лицо, и два раскаленных голубых угля глаз.
Видит и очень хорошо знает. И в них нет жалости, только сожаление.
Джеймс, прижимая сломанную кисть к груди, валится на спину и смеется хрипло, горько, с надрывом. Он бы хотел сейчас поднять лицо к небу и последний раз посмотреть на звезды, но взгляд упирается лишь в темно-серый потолок с уродливым пятном в углу.
— И все? Вот так просто?
— Это совсем не просто, Джеймс. Не сегодня.
— О да, — тянет тот сквозь смех, — я чувствовал всю твою боль, пока ты целился мне в спину.
— Ты единственный, по кому я промахнулся столько раз, а это говорит о многом.
— И что, мне теперь гордиться?
— Пойми меня правильно, старик, я... Не хотел такого. Я предупреждал, просил отступиться, я даже предлагал тебе денег, но ты не слушал, и это, — ствол наглядно качнулся из стороны в сторону и вернулся на прежнее место, — просто крайние меры. Это... Сложно, Джеймс, но именно так и должны поступать лучшие друзья.
— Что, отстреливать других друзей? Не смеши меня, Щербатый!
— Возвращать долги, которые списали все остальные. Один раз мы уже брали взаймы целую жизнь, но так и не вернули ее, — Гаррус замолчал и, сделав едва заметную паузу, тряхнул головой. — Не позволю этому случиться снова.
— Сколько? — Вега стонет, с трудом приподнимаясь на локте и принимая сидячее положение.
— Джеймс, это...
— Важно, черт возьми!.. Так сколько?
— Ты — двенадцатый.
Вега смотрит в острое, заточенное тенями лицо, пытаясь уложить в голове мысль, что Архангел — чертов рыцарь без страха и упрека! — повернул винтовку в сторону от бандитов Омеги. Он отчетливо слышит в голосе Гарруса извиняющиеся интонации, но не видит их на его лице — он не Шепард, читающий малейшие изменения настроения турианца по дрожанию жвал и вибрации голоса.
— Локо имеет право знать, кто он, — наконец произносит он тихо. — Его пацан имеет право знать, что, играя в коняшку, катается на спине героя.
Гаррус лишь до боли стискивает зубы. Он не собирается оправдываться или просить прощения, он уже пробовал это с другими — бесполезно. Внезапно его начинает тошнить от происходящего, от страха в глазах хорошего друга, от обжигающе холодной рукояти чужого оружия, от того, что никто даже не делает попытки понять, почему должен получить по пуле, но пистолет в его руке не дрожит.
Точно так же, как и одиннадцать раз до этого.
— Он отлично знает, кто он, лейтенант.
И Джеймс Вега слышит грохот в последний раз.
***
Шепард сидел на краю шершавого бетонного блока недалеко от спущенного трапа «Нормандии». Никакого парадного мундира, никаких медалей, оружия, отличительных знаков, выглядывающей из-под ворота цепочки жетонов — ничего, кроме небольших капитанских лычек на рукаве. Его плечи были напряжены так, что это было видно даже сквозь расстегнутую на груди форменную куртку, голова вдавлена в плечи, корпус наклонен вперед. В руках, поставленных локтями на колени, — шар величиной с бейсбольный мяч, на котором, если хорошо присмотреться, можно было увидеть скособоченную шапку полюса и «треугольники» обеих земных Америк.
Шепард сидел, низко склонив голову, но все же умудрялся при этом смотреть вперед. Бешено, тяжело, пронзительно, из-под лобья, заглядывая каждому в глаза, выворачивая наизнанку немым вопросом: «Ты уверен?»
Вообще, Цитадель могла похвастаться добрым десятком памятников первому человеческому СПЕКТР’у, но я любил этот. В нем не было ни царственного величия, ни священного страдания, ни полета высокой мысли. В этом тихом, уютном уголке Цитадели, рядом с уменьшенной копией находящейся в строю «Нормандии», мой друг не указывал рукой в небо в пророческом жесте, не палил из огромных пушек и не вытаскивал из пекла детей. Он никого не вел за собой, не сгибался под тяжестью всего чертового небосвода.
Здесь он был собой: уверенным, упрямым, бесконечно уставшим, напряженным, как погнутый стальной прут.
Это не только мое мнение. Я часто видел во время коротких остановок «Нормандии» Джокера, забегавшего сюда, чтобы пересказать куску камня последние новости; Джейкоба, знакомившего своего улюкающего детеныша с его знаменитым тезкой; складывающего на груди ладони в коротких молитвах Кольята; жмурившегося и до крови сжимавшего кулаки Рекса; что-то тихо говорящего по-испански Джеймса Вегу.
Но все же большую часть времени этот уголок Джона Шепарда пустовал. Люди проносились мимо него по разным причинам: чрезвычайная занятость, неудобное расположение, невзрачная композиция, не слишком удачный подбор материалов, отсутствие ярких символов, герой, совсем не похожий на героя, герой, слишком похожий на Бога, или не та планета в кольце грубых пальцев, или слишком жалкая планета в кольце грубых пальцев, слишком низкий, слишком высокий... Но не зависимо от причины, которой они оправдывались перед самими собой, дело было не в этом.
Просто этот Шепард не был иконой. Он смотрел жадно, жарко, хлестко и слишком живо. Это был не Шепард, вернувшийся оттуда, откуда не возвращался никто, не Шепард с агитационных плакатов Альянса и даже не Торфанский Мясник Шепард, а всего лишь человек. Далеко не всесильный, далеко не железный.
И гораздо проще было, задрав голову, стоять у ног четырехметровых гигантов, отлитых в металле и подсвеченных сотнями огней, у цветастых изображений бравого капитана, объемных голографических проекций всеобщего кумира, чем смотреть на обычного человека сверху вниз. Было в этом что-то неправильное.
Я остановился, прислонившись бедром к невысокой ограде, и ничуть не удивился, замечая впереди знакомую фигуру. Я подозревал, что сегодня найду здесь этого человека: он приходил всякий раз, когда изрядно расшатанные имплантаты наливали его шрамы багряным, когда сны становились особо острыми... И после встречи с Джеймсом Вегой он не мог быть где-то еще.
Джордж Мюрей стоял перед Шепардом, сложив на груди руки на любимый манер последнего и недоверчиво склоняя голову то в одну, то в другую сторону, примеривался к нему сощуренным, едва ли не гневным взглядом, и в который раз вопрос «да кто ты такой?» пылал в его глазах не хуже неоновых вывесок Президиума. Его волосы, словно присыпанные солью, отрасли непривычно длинно, и он то и дело встряхивал головой, чтобы убрать их с глаз. Он давно обстриг бы их, если бы не Карен. Джордж не был склонен к полноте, но судя по тому, что рубашка с нашей прошлой встречи сидела на его фигуре чуть плотнее, значило, что он все же поправился.
Меня не могло это не радовать. Не столько потому, что у моего народа все еще были живы старые признаки семейного благополучия, сколько потому, что я помнил, каким легким он был тогда, когда я нес его по развалинам Лондона, ужасаясь, как взрослый мужик мог весить так мало. В какой же момент мои глаза настолько замылились всеобщим страданием, что я не заметил истощения своего лучшего друга?
Хотя сомневаюсь, что он сам когда-либо замечал его: чертова прорва крайне важных дел — верный способ отвлечься от любого недомогания. А Шепард всегда работал с полной самоотдачей, не останавливаясь, не оправдываясь и не щадя никого. Наверное, поэтому идти за ним всегда было так просто.
Помню, когда лучи Горна прошли сквозь суда Жнецов как нож сквозь масло, первой мыслью было: «Я оглох». Ни воя хасков, ни грохота орудий, ни стонов, ни победных криков... Мы несмело вылезали из укрытий на фоне пожаров Лондона, напоминавшие сами себе призраков, и с опаской смотрели в небо. Полное поражение сменилось безоговорочной победой так резко и полно, что верилось в нее с трудом.
Мы и не верили толком. Бродили по руинам, не спеша опускать оружие, хотя уже не осталось тех, в кого надо было стрелять, бездумно, на автомате растаскивали завалы, порой с трудом отличая живых от мертвых, вслушивались в «белый шум» радиопередатчиков. Без сна, мыслей, голода...
Помню, как я нашел их — двух солдат Альянса, устало привалившихся друг к другу, спиной к спине. Худых, раненных, грязных, без брони и оружия — они бросили их раньше, там, откуда теперь тянулись две вереницы следов и неровные алые дорожки. И если бы не отчетливый след падения одного из них неподалеку, борозда, оставленная от протащенного волоком тела, острый запах паленой плоти и сожженного металла, въевшегося в их кожу, я бы подумал, что они просто спят.
Один из мужчин, уронив голову на бок, тихо улыбался, глядя мутными стеклянными глазами на свою руку, сжимавшую пустую упаковку панацелина. Я подошел к нему осторожно, не решаясь опустить веки, снял с шеи немного погнутые жетоны — возможно, последнее свидетельство жизни Джорджа Мюрея. Помню, как я вздрогнул, когда боец за его спиной чуть слышно захрипел и как едва не сорвался на крик, когда узнал в нем своего капитана.
Я до сих пор не понимаю, как ему удалось выжить в том взрыве, но прекрасно помню момент предельной ясности, наступивший после того, как взвалил его на плечо. Мы победили. Проклятье, мы действительно победили!
А еще я вдруг очень четко понял кое-что... Что отныне все изменится, и мир больше никогда не будет прежним; что обводя этот день в календаре красным фломастером, его цвет навсегда будет ассоциироваться у нас со смертью; что я, вероятно, стану самым известным турианцем, которому величайший, мать его, герой Джон Шепард будет обязан жизнью; что Мюрей, тащивший его на себе неизвестно сколько времени и предпочетший вместо попытки спасения остаться рядом с ним до конца, скорее всего, ляжет в одну из братских могил и окажется вскоре забыт, а Шепард... Что ж, Джон будет героем, станет символом нового времени. На каждом углу будут рассказывать истории, как он стал универсальным решением любой проблемы Альянса, как был перепаян «Цербером» в оружие, его облепят званиями и медалями, заставят улыбаться с плакатов, превратят в идола, навсегда отнимая последние шансы быть нормальным.
Передавая едва живое тело врачу одной из спасательных бригад, я уже знал, как спасти их обоих.
— Это Джордж Мюрей. Я нашел его в развалинах к северу отсюда.
С того дня прошло чуть больше двух лет. Мир действительно изменился, хотя и не так сильно, как я полагал. Оживить ретрансляторы и заново собрать Цитадель оказалось не так сложно, как представлялось в начале. Выжившие нашли в себе силы заткнуть гордость и жадность и хотя бы попытаться жить, не перетягивая одеяло на себя. Мы умудрились не развалить заключенные союзы и даже наладить новые, смириться с гетами, пережившими откат собственной программы на триста с лишним лет назад и вернувшимися к заложенному в них простому протоколу «хозяин—слуга». Мы обнаружили в себе надежду когда-нибудь ответить «да» на вопрос о том, есть ли у данной платформы душа. Мы смогли отпустить старых врагов и старые обиды, обзавестись новыми традициями и новым национальным достоянием.
Прошло чуть больше двух лет с тех пор, как Карен Мюрей, прижимая к себе своего ребенка, впервые присела на краешек кровати «мужа», отчаянно цепляющегося за жизнь. Я не знаю, что заставило ее остаться рядом с ним и после того, как оказались сняты бинты. Вряд ли те восемь месяцев, проведенных у его постели, вряд ли желание вернуть своему сыну отца любым способом и уж точно не обаяние, которое Джон не растерял вместе с кровью и памятью.
Я не знаю. Но определенно благодарен за то, что она будет с ним, когда его сны превратятся в воспоминания о том, как его мешали с грязью, пока он рвал жилы на базе Коллекционеров; как на Вермаире приказал умереть женщине, которую так и не успел полюбить; как разбил две бутылки о голову Кортеза потому, что тот не позволил своему пьяному капитану сесть за штурвал и вернуться обратно на Тессию.
До того, когда к нему снова вернуться хаски, приобретающие после пущенной в лоб пули человеческие лица; воспоминания о том, как он боялся засыпать. Как он вспомнит доктора Чаквас, дважды откачавшую его от передозировки стимуляторами, которыми тот закидывался, чтобы после спасения Гриссомской Академии лететь на заседание Совета; брал за грудки упрямых кроганов и произносил вдохновляющие речи, а потом пытался вставить хоть слово в сверхскоростную тарабарщину Мордина, лез в виртуальный мир гетов и читал молитвы над Тейном.
До того, как вернется та драка за Тали, которую он затеял со мной просто для того, чтобы доказать самому себе, что в его жизни есть что-то, кроме великих целей и старого пистолета.
Я был чертовски благодарен, что она будет рядом, когда он поймет, что стоит у памятника самому себе.
Потому что каждый раз, когда прихожу сюда, я вижу, как Джордж Мюрей сопротивляется этим воспоминаниям изо всех сил; как не бреется неделями, чтобы хоть немного скрыть свои шрамы, предпочитает строительный молоток штурмовой винтовке, как хохочет во все горло так, как никогда не позволял себе этого прежде; как зло смотрит на Шепарда, словно надеясь, что тот заберет свою жизнь обратно; как отращивает волосы, хотя не может терпеть подобных причесок; как подбрасывает в воздух визжащего от радости мальчишку, на прошлой неделе впервые назвавшего его отцом, и как боится пошевелиться, если его мать вдруг засыпает у него на плече.
Я знаю, что рано или поздно он все вспомнит, и очень надеюсь, что когда это произойдет, я посмотрю на Мюрея и не найду в нем ничего от своего прежнего капитана, что он отпустит ту жизнь и герой галактики уйдет. Навсегда и по-настоящему.
Ну, а пока...
— Ты уверен? — строго спрашивает Шепард.
— Я уверен, — отвечает Мюрей, скрещивая на груди руки и вздергивая подбородок.
— Уверен, — упрямо шепчу я, ловя в прицел спину тринадцатого человека, назвавшего Джорджа Мюрея героем, и в момент выстрела мне кажется, что высеченное в камне лицо разглаживается, делаясь чуточку мягче.
Отредактировано. Jason_Stayers

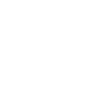 Мы теперь в Discord
Мы теперь в Discord
Комментарии (9)
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход